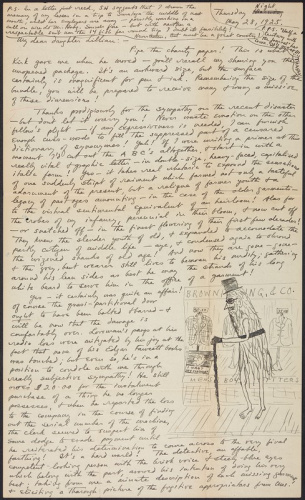Продолжение эссе Сони Грин, жены Говарда Лавкрафта, о нём, о ней, об их супружеской жизни.
Начало тут — https://fantlab.ru/blogarticle71159
***
Когда мы поженились, он был высокий и худой, и выглядел так, словно недоедал. Мне, по счастью, нравится явственно аскетический тип, но Говард был слишком худым даже для моего вкуса, поэтому я взяла за обыкновение готовить сбалансированный ужин, подавать питательный завтрак (ему нравилось сырное суфле! – довольно неподходящее блюдо для завтрака), а когда я уходила на работу, то оставляла ему несколько бутербродов, кусок торта и фрукты на обед (он любил сладкое), я постоянно напоминала, чтобы он обязательно пил чай или кофе. Всё это происходило, пока у меня была работа в Нью-Йорке. Он столь сильно любил сладкое, что когда пил чай с лимоном, обильно наполнял чашку сахаром. Он говорил, что единственная причина, по которой он пьёт чай, это потому что обожает сахар и лимон.
Иногда он встречал меня после работы, и мы ужинали в каком-нибудь уютном ресторане, а потом отправлялись на спектакль, в кино или смотрели оперетту. У него отсутствовало чувство времени. Сколько раз мне приходилось ждать его в вестибюле какого-нибудь здания или на углу улицы, на морозе в минус десять градусов, а то и меньше: я не преувеличиваю. Мне часто приходилось ждать его от двадцати минут до полутора часов. Он всегда опаздывал на встречи, со мной или с кем-либо ещё. Когда мы жили на Парксайд-авеню, он поправился и выглядел намного лучше. Он стал «более привлекательным человеком!». Я думаю, что до знакомства со мной он умирал от голода, и, вероятно, позволил себе снова умирать с голоду, когда мы окончательно разошлись.

До того, как мы поженились, я пригласила Говарда и его тёток на ужин. В Провиденсе, чаще всего, мы ходили в отель «Билтмор». Мне нравилась музыка, обстановка и безупречное обслуживание. Говаорд и его тётки считали меня слишком экстравагантной. Но им нравились подобные выходы в свет, и ему тоже. Я пригласила их погостить у меня в Бостоне, но его тётки так ни разу и не приехали; однако, они позволили Говарду присоединиться ко мне в Бостоне. Ему не разрешали оставаться с ночевой, пока Говарду не исполнилось тридцать.

Ему было тридцать четыре года, когда мы поженились я была немного старше (Примечание С.Т. Джоши: Соне был сорок один год, когда она вышла замуж), и регистратор не поверил, когда Говард указал наш возраст. Он думал, что я моложе, а Говард старше. Всякий раз, когда у меня была возможность поехать в Новую Англию по делам, Говард присоединялся ко мне в Бостоне, и пока я работала, он исследовал музеи, кладбища, старинные дома и так далее. А вечером мы встречались, ужинали в Копли-Плаза или в греческом ресторане, который ему особенно понравился, потому что на фресках, украшавших стены, были изображены сцены из истории Греции. Неважно, где мы ели в других местах, но каждый раз, когда я приезжала в Бостон, мы хотя бы раз ужинали в его любимом греческом ресторане, и всё это время он рассказывал мне о Древней Греции и Риме, и я почитала за огромную честь слушать его после тяжёлого рабочего дня.

Основная причина, по которой я останавливалась в Копли-Плаза, или другом первоклассном отеле, заключалась в том, что компания, которая меня наняла, настаивала, чтобы во время моих поездок я останавливалась в первоклассных отелях, так как наша компания была одной из лучших в Нью-Йорке, и не могла представить, чтобы её представители довольствовались чем-то меньшем, нежели фешенебельным первоклассным отелем. Говард обычно снимал комнату в "Браунсвике", а потом присоединялся ко мне в Копли. Он говорил, что не привык ужинать в подобных местах с тех пор, как их состояние, его и тетушек, растаяло; а хорошая музыка, исполняемая настоящим оркестром, или официанты в сюртуках казались ему предметами из ушедшего прошлого. Я отвечала, что он скоро снова привыкнет, и что этому не так уж сложно заново научиться и ценить.

Я русская, приверженка бывшего царского режима, и большая любительница музыки. Я приехала в Америку в возрасте восьми лет. Когда моя мать овдовела, она отвезла меня в Ливерпуль в Англии, где я впервые оказалась в школе, обучалась там, в течение двух лет. Моя мать приехала в США в гости; рассчитывая вскоре вернуться, оставив меня с двумя братьями и сёстрами, но как только она посетила Нью-Йорк, её уговорили остаться. Там она встретила преуспевающего мужчину и вышла замуж.
Когда я закончила второй класс школы, мама послала за мной. Благодаря своему браку в 1891 году она автоматически стала гражданкой США. После того, как я выросла и закончила школу, завершила обучение на вечерних курсах Колумбийского университета, мне следовало ехать в Европу для своего первого делового предприятия (в 1921 году), я обнаружила, что после окончания Первой мировой войны я должна была самостоятельно получить американские документы; я вышла замуж в 1899 году, но нигде не смогла найти документы о натурализации мистера Грина, и мне пришлось отложить поездку в Европу, пока я не получила американское гражданство. Позже мне удалось, всё-таки, добраться до Европы, не рискуя быть заблокированной эмигрантскими квотами по возвращении в Америку.
Моя любовь к музыке росла и культивировалась склонностями мистера Грина. Мне было 16, а ему 26, когда мы поженились. Он тоже был русским, приехал в Америку в 17 лет, поселился в Бостоне, стал другом некого мистера Джона Грина, который утверждал, что он потомок того самого Натанаэля Грина [американский генерал, видный участник войны за независимость США], и уговорил моего мужа изменить имя на своё, сделав его приёмным сыном и наследником завещания Джона Грина. У нас родилась дочь, которая стала корреспондентом американских газет во Франции. Грин умер в 1916 году, после нескольких лет вдовства я вышла замуж за Г Ф. Лавкрафта.
После ужина в Плаза или другом месте Говард проводил меня по узким улочкам старого Бостона и его историческим местам. Иногда на нашем пути оказывался рыбный ларёк. У нас обоих было одинаковое отвращение к запаху рыбы. Он ненавидел рыбу любого вида, в то время как я могу употреблять в пищу морепродукты, если мне не придётся терпеть их сырой запах или самостоятельно их готовить. Но сырую или приготовленную рыбу, Говард не выносил и не стал бы есть.
Он с гордостью показывал мне исторические места. Но особое тщеславие у него вызывала бронзовая табличка с именем Фрэнсиса Смита, автора слов песни «Америка», и с ещё большей гордостью он заявил, что это дед нашего дорогого «Мортониуса». И поскольку я знала старого доброго Джеймса-младшего за много лет до встречи с Говардом, я испытала настоящий трепет, узнав, что он внук этого знаменитого человека.
В своём эссе «В память о Говарде Филлипсе Лавкрафте» мистер Кук заставляет Говарда сказать: «Я еле сдерживаюсь от возвращения к своим, домой, дабы не показаться приползшим назад после постыдного поражения» [Примечание С.Т. Джоши: в последствии он ещё не раз повторял эту фразу]. Это лишь часть правды. Он больше всего на свете хотел вернуться в Провиденс, но он также хотел, чтобы я отправилась с ним, но я не могла осуществить его желание, потому что обстоятельства не позволяли мне это сделать. И пока он не покинул меня, Говард оставался на Клинтон-Стрит, откуда раздавался этот крик страдающего сердца.
Уверена, он любил меня настолько сильно, насколько позволял ему его нрав. Он никогда не употреблял слово «любовь». Вместо этого он говорил: «Дорогая, ты не представляешь, как я тебя ценю». Я делала всё, чтобы понять его, и была благодарна за любые крохи, слетевшие с его губ, которые соответствовали моим чувствам.
Больше, чем кто-либо в то время, я воспринимала и чувствовала, какой великий, но в то же время дремлющий гений скрывается в Говарде. Тем не менее, когда я призывала его войти в профессиональный мир литературы, он отвечал: «Я пишу только ради удовольствия; и если некоторым друзьям нравятся мои излияния, этого достаточно». А между тем он проводил большую часть времени, пересматривая и исправляя мучительную прозу людей, которые платили ему жалкие гроши и которые, в качестве писателей, стали хорошо известны и столь же преуспевали. Один из них, чьё имя было бы неэтично произносить, стал публичным лектором и выступал на множество научных тем, зачатки которых он едва понимал [Примечание С.Т. Джоши: очень точный намёк на преподобного Дэвида Ван Буша]. Когда он хотел процитировать Библию или любой другой источник, то указывал на него словом или двумя, не зная, чего он на самом деле хочет, и Говард предоставлял нужную информацию. В Лос-Анджелесе я присутствовала на лекциях этого джентльмена по психологии, перед очень большой аудиторией, в основном состоящей из женщин, ищущих утешения после любовных разочарований, потери состояния, душевных, психических и физических заболеваний или разочарований в жизни.

Этот человек написал книгу так называемых стихотворений [Примечание С.Т. Джоши: Лавкрафт пересмотрел два сборника стихов Буша, и его книги по психологии, которые также включали множество стихотворений], которую наивность содержания делала настолько нелепой, что я искренне убеждала Говарда не тратить на неё силы и ум. Но он воспринял центральную идею и переписал текст таким образом, что автор ничего не заподозрил, но был ему благодарен, заплатив столь жалкую сумму, на какую только мог осмелиться [Примечание С.Т. Джоши: Лавкрафт подчёркивает в письмах регулярность платежей Буша, указывая цену: 1 доллар за 8 строк поэзии].
У него было несколько таких клиентов, хотя по большей части он работал бесплатно. И он сам жаловался на глупость большинства рукописей, которые ему пришлось редактировать.
Если бы он не был слишком гордым, отказываясь писать за деньги, то не обрёк бы себя на голод.
Узрев гения в Говарде, я взялась за дело, чтобы выдворить его наружу.
Мы очень серьёзно обсуждали предстоящую свадьбу. Впервые я встретила его на Бостонском съезде, где в 1921 году проходило мероприятие журналистов-любителей. Я, прежде всего, восхищалась его личностью, но, честно говоря, не его персоной.
Поскольку он постоянно пытался найти новых сотрудников для любительской журналистики, он предложил прислать мне образцы любительской литературы не только собственного пера, но и от авторов, чьи произведения, по его мнению, будет соответствовать моим читательским вкусам, тексты, весьма отличающиеся от тех, которые публикуются в газетах ассоциации.
С этого момента мы начали непрерывную переписку, и я почувствовала себя особенно польщённой, когда он в некоторых письмах ко мне, сказал, что мои тексты свидетельствовали о свежести несвойственной незрелости, освежающей оригинальностью и смелостью моих убеждений, особенно когда я с ним не соглашалась.
Я часто не соглашалась, не потому что хотела обидеть, а потому что желала как можно скорее, по возможности, искоренить или, по крайней мере, ослабить некоторые из его самых закрепившихся идей.
Джеймс Ф. Мортон-младший был моим другом много лет. Именно он познакомил меня с миром любительской журналистики, когда ему нужно было собрать своих друзей по клубу «Синий карандаш» в моей квартире [Примечание С.Т. Джоши: клуб «Синий карандаш» был одним из Нью-Йоркских любительских журналистских кружков, аффилированным с Национальной ассоциацией любительской прессы]. Многие друзья Мортона посещали эти встречи. В течение всех этих месяцев интенсивной переписки Говард регулярно упоминал имена нескольких друзей-журналистов-любителей, большинство из которых он знал только по письмам. Одним из них был Сэм Лавмэн из Кливленда, штат Огайо, которого Говард назвал Самуэлем. Говард никогда не встречался с Лавмэном, но хотел, чтобы мы с Лавмэном начали переписку (он латинизировал имена своих друзей и корреспондентов: Мортоний, Кляйнерий, Мократ, Гальпиний, Бэлконаусганг и т.д.).
Тогда я не согласилась, но упомянула, что одна из моих командировок рано или поздно приведёт меня в Кливленд, и что я встречусь с Лавмэном и передам привет от Говарда.
Когда я впервые оказалась в Кливленде, то обнаружила, что Лавмэн действительно соответствовал всему, что Говард говорил о нём. На самом деле, Говард, должно быть, испытывал к нему большое уважение, так как сделал его одним из персонажей в своей истории: «Показания Рэндольфа Картера», которая изобилует тонкими похвалами и даже, я бы сказала, восхищение.

После рабочего дня Лавмэн сделал мне сюрприз, собрав почти всех «любителей» в одной из приёмных недавно открывшегося отеля «Стэйтлер». Мы провели по-настоящему приятный вечер, в конце которого все вместе подписали открытку с видом Кливленда и отправили её Говарду.
Когда я несколько позже написала ему, то сетовала, что он не мог быть с нами; что его присутствие сделало бы моё счастье абсолютным в тот вечер и т.д.
В ответ я обнаружила тёплое и ободряющее письмо, но даже в это тепло в изобилии вмешивались оговорки.
С тех пор у меня было два корреспондента: Говард и Лавмэн. Поскольку они никогда не встречались лично, я пригласила их обоих приехать в Нью-Йорк на Рождество и Новый год. Я оставила им свою квартиру, в то время как добрая соседка разрешила мне спать в углу её квартиры. Вечерами мы могли вместе ужинать и ходить смотреть спектакли.
Я была поражена подобной дерзостью с моей стороны, апломб или смелость, пригласить двух мужчин за мой счёт, чтобы они стали моими гостями, а также временными хозяевами моего дома. Раньше мне казалось это довольно захватывающим, но я предпочла не увлекаться. У меня была очень веская причина, о которой я расскажу чуть ниже [Примечание редактора: иудаизм Лавмэна]. Мы отправились в известный итальянский ресторан, а позже в оперетту на постановку «Летучая мышь», одна из арий которой, «Сказания о расхитителях гробниц», впоследствии стала очень популярной.
Говард впервые отправился в итальянский ресторан. И тогда он впервые отведал Минестроне, чудесный итальянский овощной суп, подаваемый с сыром пармезан. Он также впервые, по его словам, ел спагетти с мясным и томатным соусом, щедро сдобренных сыром пармезан. Но он отказался выпить даже каплю вина. Заявив, что никогда не употреблял никакого алкоголя, даже пива, и что не собирается начинать сейчас. Мы позволили себе несколько шуток, и он присоединился. Он всегда был готов пошутить над собой и не возражал против того, чтобы стать мишенью для чужих насмешек.
Среди всех других блюд, которые можно найти в итальянском ресторане, тирамису [Примечание редактора: Соня говорит о пудинге Нессельроде], своего рода мороженое, также пользовался благосклонностью Говарда. Он был совершенно без ума от мороженого, «главного блюда» в его глазах. Мы с Лавмэном пробовали всё, мы были похожи на Мафусаила, который «съедает всё, что находит в своей тарелке», и нам очень понравилось, в том числе и вина.
Во время пребывания гостей я несколько раз приглашала некоторых из друзей-журналистов-любителей, вечером в субботу или по воскресеньям. Эти конклавы были самыми интересными из всех, на которых я бывала. Среди «любителей» были Мортон, Белкнап, Кляйнер, Перл К. Мерритт, которая позже вышла замуж за Мортона, Денч и многие другие молодые мужчины и женщины, чьи имена я забыла. Все мы в отлично проводили время.
Вскоре Лавмэну пришлось вернуться в Кливленд, и Говард остался один. У соседки, которая так щедро одолжила мне уголок, где я спала, была великолепная персидская кошка, которая сопровождала её походы в мою квартиру. Как только Говард увидел кошку, он понял, что влюблён в неё. Казалось, он может говорить на языке, который понимали его кошачьи братья, потому что Говард опустился на колени и принялся мурлыкать от удовольствия.

Наполовину серьёзно, наполовину насмешливо, я сказала: «Какая у тебя огромная и чистая любовь к обычной кошке, любая женщина оценила бы её!». Он тотчас ответил: ««Как женщине может понравиться такое лицо, как у меня?». Я ответила: «Матери может, а те, что не являются матерями, наверное, никогда не пробовали...». Мы смеялись, пока он продолжал гладить кота, которого звали Фелис.
Не имея возможности самостоятельно писать фантастику, мне казалось, что я воспринимаю талант и мастерство Говарда. Я решила, что было бы замечательно, если бы он был больше осведомлён о моих чувствах к нему и если представится возможность, то я могла бы помочь ему избавиться от сдерживаемых внутри комплексов. То, что могло быть предпринято с моей стороны в качестве эксперимента по привлечению внимания Говарда ко мне, стало, пожалуй, лучшим опытом проявления моей внушаемости. Во всяком случае, я благодарна космическим богам за то, что они привели меня к нему.
Говард начал думать, что с уходом Лавмэна ему тоже следует уехать. Но, честно говоря, каждый раз, когда он отправлялся на разведку с «мальчиками», я не видела его несколько ночей и понимала, как мучительно для меня находиться вдали от него. Поэтому вместо того, чтобы вернуться домой в Провиденс, я предложила ему устроить «Провиденс» на Парксайд авеню. Он не считал это возможным. «Давай попробуем», – настаивала я. И каждый из нас написал срочное приглашение каждой из его тётушек, и после минимальных уговоров младшая из двух тётушек, миссис Энни Гэмвелл, отправилась в путешествие. В моей квартире было достаточно места для трёх человек, так как я переехала обратно и больше не собиралась ночевать «по соседству». Миссис Гэмвелл сопровождала нас во время всех наших прогулок, и, по-моему, она находила в них настоящие удовольствие, так как она тоже когда-то пристрастилась к миру спектаклей.
Но через несколько недель она настояла на том, чтобы они вернулись в Провиденс. Однако перед отъездом мы познакомились с матерью Фрэнка Белкнапа Лонга, она и миссис Гэмвелл были рады встрече и вскоре подружились. Миссис Гэмвелл познакомилась с большинством «любителей» клуба «Синий карандаш», которые представляли Ассоциацию любителей прессы.
Когда Говард и его тётя вернулись в Провидение, я впервые осознала, что хотя я никогда не видела его по утрам, мы встречались лишь по вечерам, как сильно я скучаю по нему.
После того, как он вернулся домой, мне не было стыдно сказать ему, как сильно я по нему скучала. Тот факт, что он получил от меня это признание, сыграл важную роль, я считаю, чтобы установить наши отношения на более серьёзном и, возможно, более опасном фундаменте.
Я прекрасно понимала, что он не помышлял о женитьбе, хотя в его письмах говорилось о желании покинуть родину и переехать в Нью-Йорк.
Мы обдумывали и рассматривали возможность жить вместе. Некоторые наши друзья начали подозревать, что у нас завязался роман, и по его дружеской просьбе я призналась, что принимая всё во внимание и что, если он захочет, я буду счастлива стать его женой. Но между нами не было принято никакого окончательного решения.
После двух лет почти ежедневной переписки – Говард описывал мне всё, что делал и куда ходил, цитировал имена своих друзей и суждения о них, иногда заполняя 30, 40 и даже 50 страниц своим мелким почерком, – он решил порвать с Провиденсом.
На протяжении четырёх лет обмена письмами и моих частых деловых поездок в Новую Англию я упоминала о неблагоприятных обстоятельствах, с которыми нам придётся столкнуться, и обо всех проблемах, которые нам придётся преодолеть, и о том, что если мы будем заботиться друг о друге больше, чем о проблемах, которые возникнут, то нет причин, по которым наш брак не смог бы стать успешным. Он согласился со всеми доводами.
Таким образом, в один памятный день 1924 года Говард прибыл в Нью-Йорк, как на свою новую родину. Он настаивал на том, чтобы нас обвенчал христианский священник, а венчание состоялось в часовне Святого Павла, «куда Джордж Вашингтон, лорд Хоу и многие другие великие люди приходили, чтобы помолиться».

Я позволила ему поступить по-своему, а я сделаю позже по-своему, во многом лишь для того, чтобы удовлетворить его. Почти во всём он был «победителем», а я – «побеждённой». Я не хотела противоречить ему ни в чём, что помогло бы уничтожить его комплексы.
Сведения о нашем браке можно обнаружить в Бруклинском апрельском информационном бюллетене клуба «Синий Карандаш» 1924 года, Бруклин, Нью-Йорк.
Перед тем как он переехал из Провиденса в Нью-Йорк, я велела ему дать понять тёткам, что он собирается жениться, но он ответил, что предпочитает сделать им сюрприз. При всех формальностях подготовки брака, во время приобретения кольца и всех других деталей свадьбы, он казался таким весёлым. Он даже зашёл настолько далеко, что заявил, будто женится в девятый раз, настолько мы методично выполняли все предписания.
Посетив Магнолию, штат Массачусетс, мы прогулялись по дороге в Глостер. По пути он прочитал мне целый фрагмент из пьесы «Император Джонс» Юджина О'Нила на отличном негритянском диалекте. А когда мы жили в Бруклине, в моей первой квартире, они с Джеймсом Ф. Мортоном разыграли целую сцену из «Ричарда III», настолько виртуазно, что, глядя на них, можно было вправду поверить, что Говард был настоящим актёром.

Его голос был ясным и резонирующим, когда он читал или декламировал, но в повседневной беседе становился тонким и высоким, переходя порой в фальцет, в то время как читая свои любимые стихи, он держал голос в крепости глубокого резонанса. Что касается его голоса, когда он пел, то голос казался особенно мягким. Он никогда не отваживался на современные песни и всегда ограничивался своими любимыми мелодиями, теми, что были в моде лет пятьдесят назад и более.
В юности он научился играть на скрипке, но, осознав, что никогда не станет виртуозом, он предпочёл полностью отказаться от неё (Примечание С.Т. Джоши : в своих письмах Лавкрафт пишет, что ему пришлось отказаться от скрипки из-за своего нервного расстройства). Он увлёкся астрономией и вёл еженедельную колонку в одной из газет Провиденса (в частности, «Провиденс Трибюн», а затем «Вечерние новости Провиденса»), для которой он также готовил карты звёздного неба. У него были две записные книжки, толстые, большие и тяжёлые, килограммов по двадцать каждая, заполненные выписками и расчётами на эти темы.
Он с удовольствием рисовал карикатуры на самого себя, представляя, каким он станет, когда состарится. Обычно это был старик с большим животом, длинными волосами и бородой, в старомодных очках на кончике носа; иногда очки были на обычном месте, иногда приподняты на лоб; и он делал вид, что не может их найти.
Однажды он прислал мне рисунок «заброшенный дом», задолго до того, как написал рассказ. В другой раз он использовал свои знания скрипичных дел в истории под названием «Музыка Эриха Занна».
Во время нашего пребывания в Магнолии, в великолепном и эксклюзивном летнем поместье на северном побережье Массачусетса, мы часто ходили в Глостер, который удалён примерно на шесть миль. Во время пути мы проходили по очень красивой эспланаде. Однажды вечером, когда мы шли по ней, полная луна отражалась в воде, а круглые вершины столбов, погрузились в волны, и тросы, связывающие их в гигантскую паутину, давали живому воображению готовую идею сказки ужасов. «О, Говард», – воскликнула я, – «у тебя тут все элементы действительно странной и загадочной истории». На что он мне ответил: «А почему бы тебе не записать её...». «Нет, я не смогу», – ответила я. «Попробуй! Расскажи, какие сцены приходят тебе в голову...». Шагая, мы добрались до края скалы. Тогда я описала ему обстановку и звуки. Он ободрил меня с таким энтузиазмом и искренностью, что я удивила и шокировала его поцелуями. Он был так взволнован, что покраснел, а потом побледнел. Я дразнила его, и он признался мне тогда, что никто никогда не целовал его с самого детства, что его мать и тёти никогда не целовали его, и ни одна женщина с тех пор, как он стал взрослым, и что, вероятно, никто никогда больше не поцелует его. (Но я доказала, что он ошибался). (У него была очень гладкая и мягкая кожа, за исключением нескольких острых волосков в бороде, которые беспокоили и раздражали его, и он прибегнул к эпиляции, чтобы избавиться от них). По крайней мере, теперь я знала, что он любит мать и тёток в хорошем смысле, но не демонстрировал своей привязанности.
После нашего отпуска в Магнолии, каждый вернулся в собственный дом. Но наша переписка, становясь более интимной, и привела к браку. Сразу после того, как мы поженились, он сказал, что независимо от того, какое общество создаётся, он хотел бы, чтобы оно было «арийским».
Он больше не мог терпеть Бруклин, и я предложила вернуться в Провиденс. Он ответил: «Если мы оба сможем вернуться, чтобы жить в Провиденсе, этом святом городе, где я родился, и в котором жили мои предки, я уверен, что буду счастлив». Я подтвердила: «Я не хотела бы ничего большего, чем жить в Провиденсе, если бы я могла там работать, но боюсь, что в Провиденсе нет той ниши, которую я могла бы занять». Я скоро присоединюсь к нему.
Говард жил в то время на Барнс-стрит, в большой студии, кухню которой он делил с двумя другими жильцами. У его тёти Лилиан, миссис Кларк, была комната в том же доме, в то время как миссис Гэмвелл, младшая тётя, жила в другом месте. Тогда мы встретились с ними обоими. Я предположила, что могу снять квартиру побольше, нанять домработницу, и взять на себя все расходы и что они, обе тётки, смогут жить у нас, ничего не тратя, или, по крайней мере, иметь минимальные расходы, и они станут жить лучше. Мы с Говардом в это время обсуждали арендную плату за такое жилье, с возможностью его покупки, если нам там понравится. Говард использовал бы часть площади для размещения своего стола и библиотеки, а другую часть я использовала бы для собственного бизнеса. В этот момент две тётки твёрдо заявили, что ни они, ни Говард не могут смириться с тем, что жене Говарда придётся работать, чтобы жить в Провиденсе. Так оно и было. Теперь я знаю, на чём мы остановились. Гордость хочет, чтобы мы страдали в тишине; и их, и моя.
Как только Говард переехал в Провиденс, я вернулась в Нью-Йорк, устроившись на более низкооплачиваемую работу, чем мне предлагали на Среднем Западе, но тем самым оставаясь поблизости от Провиденса, чтобы я могла приезжать туда на выходные. Но предложение, которое мне сделали в Чикаго, было слишком щедрым, чтобы я могла от него отказаться, поэтому я его приняла. Я решила, что Говард приедет в Нью-Йорк, чтобы провести со мной несколько дней до моего отъезда. И я знала, что могу проводить с ним несколько дней каждые две недели, когда мне придётся совершать одну из поездок с поставками товаров.

Теперь каждый из нас пошёл своей дорогой, он в Провиденсе, а я в Чикаго. Я пробыла там с июля до Рождества, не считая поездок в Нью-Йорк за покупками. Я ненавидела Чикаго. Летом там ужасно жарко, а зимой – холодно. Я решила приехать в Провиденс на короткий отпуск, надеясь, что что-нибудь из этого получится, хотя и не знала, что.
В Провиденсе в ту зиму стояла ледяная стужа, но, поскольку я любила эти холода, я уговорила Говарда сопровождать меня во время разведки, цель которой могла быть интересной. Но так как он не мог вынести сильного холода, мне пришлось помочь ему подняться на холм, двигаясь рядом и поддерживая его одной рукой за талию, а другой держа его за руку. При иных обстоятельствах я бы поймала такси, но его не было в поле зрения, и я не решилась оставить Говарда, чтобы сбегать за машиной. Оказавшись у него дома, я быстро сняла с Говарда туфли и начала растирать его замёрзшие ноги. Он лежал на кровати в полубессознательном состоянии. Растерев ему руки и ноги, я заставила его выпить немного очень горячего чая с лимоном и большим количеством сахара. Он был очень благодарен мне за заботу.
Через несколько дней, оправившись от «заморозки», мы отправились в Бостон. Там мы остановились в полувикторианской гостинице на Содружестве Авеню, построенной в начале 1890-х годов. Хотя гостиница носила французское имя "Вандом", Говард полюбил её за старомодную атмосферу. Там тоже был снег по колено, но мы, как обычно, отважились на прогулки и разведки. Тротуары и пешеходные переходы были расчищены, поэтому нам не пришлось утопать в снегу, что устроило Говарда. О! Как он ненавидел снег и холод. Мы проводили время в библиотеке и музее. В таких интересных местах Говард становился самым захватывающим из людей. Чтобы он не страдал от слишком сильного холода, мы несколько раз заходили в ближайшие кафе. Вечером мы вернулись в "Вандом", а на следующий день – в Провиденс.

Я провела там несколько недель, но когда мой банковский счёт начал сокращаться, я сказала, что возвращаюсь в Нью-Йорк. Там я сняла квартиру, забрала со склада то, что осталось от мебели, и обустроила собственное жилье, затем открыла по соседству небольшой магазин модной одежды.
Наша супружеская жизнь в последующие месяцы сократилась до гор бумаги, покрытых реками чернил. Позже весной 1928 года я снова пригласила Говарда навестить меня. Он с радостью согласился. Для меня даже крохи близости с ним были лучше, чем ничего. Но всё это время я видела его только на рассвете, когда он возвращался с прогулок с Мортоном, или с Лавмэном, или с Лонгом, или с Кляйнером, или группой их знакомых. Потом его пригласил Врест Ортон в Йонкерс, и они с Ортоном проводили время за исследованием старых домов, древних кладбищ, заброшенных дорог, после чего в начале осени Говорад вернулся в Провиденс.
В последующие месяцы мы снова только обменивались письмами. Это соответствовало его желаниям, и, казалось, что он доволен такой жизнью, но не я. Я начала мягко подталкивать его к разводу. Но в этот период он всячески пытался убедить меня, как сильно я ему нравлюсь, и как опечалит его развод; и что джентльмен не разводится с женой, если у него нет серьёзного основания, а он его не находит. Я ответила, что старалась сделать наш брак успешным, но брак не может состоять лишь из обмена письмами. В ответ он рассказал мне о паре, которую он знал, по-видимому, очень счастливой, где жена жила в Вирджинии с родителями, в то время как муж находился в другом месте из-за своей болезни, и что письма сохранили их брак в целости и сохранности. Мой ответ заключался в том, что ни он, ни я не больны, и что я не желаю быть междугородной женой или иметь только междугородного мужа, которого я знаю лишь по переписке.
Всякий раз, когда он приходил ко мне, я обеспечивала его потребности и расходы, даже когда он жил на Клинтон-стрит, после того как мы перестали жить вместе и я устроилась на работу за пределами Нью-Йорка, я всегда щедро снабжала его деньгами, чтобы он мог пригласить своих «мальчиков», когда он встречался с ними, и у него были не пусты карманы, как обычно.
За то время, что он жил со мной, его тётки присылали ему мало или вообще не отправляли денег, и каждый раз, приезжая в Провиденс, я брала все расходы на себя и оставляла ему достаточно денег, а потом посылала ещё, когда он в них нуждался. Поэтому мне больно читать, что он «жил на 20 центов в день», как утверждают его биографы.
В последнюю встречу я сказала, что считаю невозможным больше оставаться его женой, хотя я хотела бы остаться его другом, если он считает, что такая дружба возможна; и что если мы разведёмся, ему придётся познакомиться и жениться на молодой женщине из своего круга происхождения и культуры, начать жить нормально и стать счастливым в Провиденсе.
«Нет, дорогая, если ты покинешь меня, я больше никогда не женюсь», – ответил он. – «Ты не понимаешь, как высоко я тебя ценю» – уверял он снова и снова. «Но ты не выражаешь свою любовь!» – повторяла я снова и снова. После полутора лет почти ежедневных писем, как с его стороны, так и с моей, мы, в конце концов, развелись в 1929 году, но продолжали переписываться; на этот раз в совершенно обыденной, но дружеской манере, и переписка продолжалась до 1932 года, когда я уехала в Европу. У меня возникло искушение пригласить его, но, зная, что я больше не его жена, я сомневаюсь, что он бы согласился. Однако я писала ему из Англии, Германии и Франции, посылая книги и репродукции всех пейзажей, которые, как я думала, могли его заинтересовать.
Конец
 облако тэгов
облако тэгов